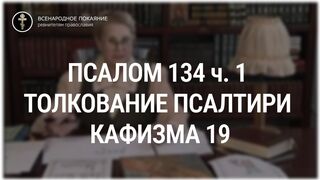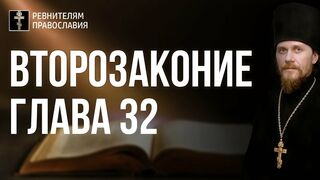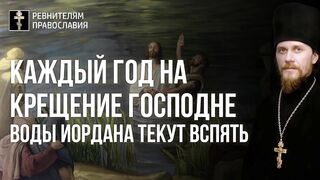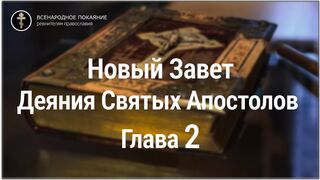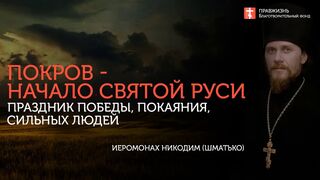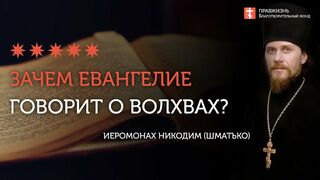Фильм о расколе 1666 - 1667 гг

Длительность: 14:39
Просмотров: 427
Добавлено: 2 года назад
В преддверии Всенародного Покаяния и Воскресения СОБОРНОСТИ Святой Руси и прихода обетованного царя- победителя, мы православные христиане, стремящиеся к Истине, в борьбе с экуменизмом и трансгуманизмом пытаемся найти истоки зарождения лжеСОБОРНОСТИ, на теле нашей заменой церкви, и соответственно выработать правильные советы по лечению этого иезуитского 300 летнего онкологического заболевания, а именно поиска причинно-следственных фактов и факторов нашего ползучего закабаления и разложения личности, семьи и государства (царско-церковной симфонии), во исполнении обета 1613г.
Созрело время раскрыть сложнейшую и в то же время простую тему раскола 1666 года, это на новообрядцев и старообрядцев для уничтожения православной соборности.
----------------------------------------------------------
Личности, вынесшие приговор старому русскому обряду на соборе 1667 года
----------------------------------------------------------
Личности, вынесшие приговор старому русскому обряду на соборе 1667 года
Греки: Антиохийский патриарх Макарий, Александрийский патриарх Паисий, архим. Дионисий, Паисий Лигарид
Из главных делателей и вершителей Раскола еще особо отметим греческих участников собора 1667 года: архимандрита Дионисия, Паисия Лигарида и двух восточных патриархов. В нравственном плане это личности отрицательные, впрочем, в то время в рядах делателей «реформы» личностей положительных нет вообще.
Архимандрит афонского Иверского монастыря Дионисий прибыл в Москву в качестве настоятеля московского Никольского греческого монастыря в 1655 г., возвратился на Афон в 1669 г., прожив в Москве почти 15 лет. Архим. Дионисий- книжный справщик Печатного двора, принимавший прямое участие в «исправлении» наших церковных книг с греческих; он также автор обширного полемического сочинения против старообрядчества.
Перед возвратом на Афон, оценивая свою деятельность в Москве, Дионисий жалуется царю Алексею в челобитной, что ему, по его словам, мало заплатили за 15 лет труда: «иным архимандритам, которые вовсе государю и не работали, однако дано было по 100, 500 и даже 1000 рублей и священные одежды, а ему, Дионисию, который по царскому делу задержан был и лишен звания своего 15 лет, и работал великому государю... дано только на 200 рублей соболями... только напрасно здоровье свое изнурил...».
Архим. Дионисий в этом плане не исключение: если зарубежным пришельцам казалось, что им мало платят, они, не стесняясь, жаловались государю. Наблюдая за греками в Москве, русские убеждались, что научиться от них чему-нибудь хорошему нельзя и что «следует держать себя от них как можно подальше, как от людей очень и очень подозрительных».
Дионисий был назначен переводчиком при греческих патриархах на соборе 1667 года, и, как пишет Н.Каптерев, его взгляды на старый русский обряд сделались взглядами восточных патриархов.
По утверждению Н. Каптерева, советчиком и руководителем восточных патриархов на соборе 1667 года был, главным образом, архимандрит Дионисий: «Что он им скажет, то они и знают, тому и верят».
Царь заранее готовился к предстоящей борьбе со сторонниками старого обряда на соборе, и поскольку защитники старины не имели научного образования по западному образцу, он решил воспользоваться теми научными силами, какими располагал тогда в лице Паисия Лигарида, архим. Дионисия, Симеона Полоцкого и Епифания Славинецкого.
Эти ученые царские богомольцы, содержавшиеся за счет царя, и должны были сковать то ученое оружие, которое бы окончательно поразило неученых защитников русской церковной старины. По поручению царя пишет опровержение челобитной Никиты Паисий Лигарид, по поручению же царя и собора 1666 г. Полоцкий пишет Жезл правления, составлением которого он занимался, конечно, еще ранее собора. Пишет сочинение против старообрядцев и архим. Дионисий». Под прямым влиянием этого сочинения Дионисия и были составлены постановления собора 1667 г. о наших старообрядцах.
Некоторые из соборных постановлений о старообрядцах и представляют из себя только простые дословные выдержки из сочинения Дионисия.
Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 года признал необоснованность суждений соборов 1656 и 1667 гг. о старых обрядах, как о якобы содержащих еретический смысл, и торжественно отменил клятвы на старые обряды и на придерживающихся их. Старые русские обряды были признаны спасительными и равночестными новым обрядам.
Но коренной переворот во взглядах на старообрядство произошел еще при митрополите Платоне с выходом в свет в 1765 г. «Увещания Православной Кафолической Церкви». В «Увещании» говорилось, что старообрядцы в самой силе веры согласны с нами, «только за одни мелкости спорят и от нас за то отдираются», что как в сугубой аллилуйи, так и в трегубой одинаково прославляется Св. Троица, что «если вера о Св. Троице есть непорочна, то какими бы пальцами ее ни изображать, нет беды спасению, что как бы ни ходить - по солнцу или против солнца, - в том великой силы не находим... Хорошо ходить по солнцу, только бы быть в соединении с Церковию».
Со времени издания «Увещания» и последовавшего за тем учреждения так называемого Единоверия старообрядцев перестали называть еретиками, перестали отыскивать в старом обряде будто бы скрытое в нем злое еретическое учение, что утверждали восточные патриархи на соборе 1667 года.
Особенностям русского обряда и чина, которые перешли к нам вместе с христианством от древних православных греков, архим. Дионисий, ничтоже сумняшеся, приписывает еретическое происхождение. Эти особенности появились у русских, уверяет он, только после того, как русские митрополиты престали рукополагаться в Константинополе: «И того ради начаша быти зде сия прелести о сложении перстов и прилог в Символе, и аллилуиа, и прочее... Диавол посея многая зизания, а не истерзаша я никто (до нынешняго благочестивейшаго, тишайшаго и боговенчаннаго нашего государя, царя и великаго князя Алексия Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца)... Остася земля сия не орана, и возрасте терние и триволи, и ина дикая зизания, и темным омрачением омрачишася»... Со времени же Алексея Михайловича, т.е. с того времени, как русские снова признали высший авторитет греков, в России снова «возсия благочестия и православия зело, и умножися благодать Божия... и мрак и тма отступи, и светлейший и совершеннейший свет истины возсия православно».
Называя двуперстие и сугубую аллилуйю еретическими чинами, Дионисий говорит старообрядцам: «От сатаны, отца и друга вашего и учителя слышасте и навыкосте сия».
Итак, обвинение в обрядоверии, приверженности к букве обряда, следует отнести прежде всего не к старообрядцам, а к грекам, верховодившим на соборе 1667 г.
Дионисий приводит пространные «доказательства», стараясь доказать, что двуперстие, несомненно, заключает в себе еретическое учение. Свои хитрые рассуждения о смысле и значении двуперстного перстосложения в крестном знамении Дионисий заканчивает таким решительным определением русских двуперстников: «Никтож от века явися еретик таковый, яко же вы, предтечи антихристовы».
Примерно так же говорит он и о сугубой аллилуйи: «Не разумеют окаяннии и слепни сердцем, зане якож глаголют они дважды аллилуиа, то есть велми и зело велия ересь».
Еретическое учение заключается по мнению Дионисия и в молитве Исусовой, как ее произносят приверженцы русской старины. «Чего ради, - говорит он,- упрямитеся вы и хощете токмо: Господи Исусе Христе, Сыне Божий, глаголати?.. Не разумеете, окаяннии, яко во Ариеву ересь впадаете?»
Одинаковое сложение перстов в крестном знамении и в иерейском благословении тоже указывает по толкованию Дионисия на еретичество. «Гречестии архиереи изящнии» перестали ходить на Русь — от того и ереси.
Вот эти воззрения архим. Дионисия на старый русский обряд и положили восточные патриархи на соборе 1667 г. в основу своих суждений о старообрядстве.
Беспринципный наемник, Дионисий знал, что ждет от него царь Алексей, знал также западническую ориентацию царя, ставившего все русское ни во что, поэтому и не постеснялся предать поруганию русскую церковную старину, нагло ошельмовать ее. Все особенности русского обряда церковного, заверял Дионисий, были созданы исключительно на русской почве, как следствие невежества, неразумия и самочиния русских; созданы были какими-то еретиками по наущению самого сатаны и потому «носят неправославный характер, содержат в себе прямо еретическое учение».
В деле церковной «реформы» и Раскола большую роль сыграл также греческий иудей Паисий Лигарид, один из активных участников собора 1667 года, которого и сам царь Алексей слушал «как пророка Божия».
Кто же был в действительности этот «пророк», услужливый жидовин? Выяснилось, что в действительности это был запрещенный архиерей, обманщик и латынник, авантюрист, долго разыгрывавший в Москве роль действительного Газского митрополита, выпрашивавший у царя большие суммы денег якобы для уплаты долгов своей несуществующей епархии и отсылавший эти деньги к себе на родину, о. Хиос.
Еще в 1666 году келарь Чудова монастыря Савва привез от патриарха Дионисия сведения, что Стефан грек представил подложные грамоты о назначении Лигарида экзархом, патриарх Дионисий признает его неправославным, а папежником.
Паисий Лигарид, узнав, что восточные патриархи едут в Москву, пытается убраться из Москвы до собора, просит царя отпустить его домой, но... благодаря поддержке Алексея Михайловича, выходит, как говорится, сухим из воды. Дело в том, что за время пребывания в Москве ловкий и льстивый обманщик сумел войти в весьма близкие отношения к царю Алексею, царь в нем, по-видимому, нашел нового «собинного» друга.
Очередным царским капризом, вероятно, и можно только объяснить упорное нежелание царя увидеть в Лигариде авантюриста, в то время, как для всех окружающих это было уже очевидным. Более того, царь старается всячески оправдать и защитить Лигарида.
Когда восточные патриархи, Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский, были еще в Астрахани, на пути в Москву, к ним был послан иеродиакон Мелетий с поручением царя спросить их: «Нет ли патриаршу гнева какова на Газскаго митрополита Паисия; да будет они гнев на на него держат и ему (Мелетию) всячески говорить патриархом, что б они, не розыскав, гневу на него не держали». Патриархи, конечно, поняли намек царя и не только не стали выражать своей гнев Газскому митрополиту, но в будущем вошли с ним в самые близкие дружеские отношения и постарались оправдать от всяких обвинений. Увидев к тому же на соборе, что горячим защитником Паисия Лигарида является сам царь Алексей Михайлович, восточные патриархи тут же признали его (Лигарида) вполне православным человеком и настоящим законным архиереем, т.е. солгали в угоду царю. Н.Каптерев добавляет по этому поводу, что, «вероятно, это дело обошлось Паисию Лигариду очень и очень недешево».
Но вот в 1669 г. в Москве получают грамоту от Иерусалимского патриарха Нектария, в которой он сообщает царю, что Паисий Лигарид был отлучен и проклят еще его предшественником, патриархом Иерусалимским Паисием, о чем была послана весть и Александрийскому патриарху Паисию. Н. Каптерев замечает, что после этих разоблачений, когда русским стало ясно, как дерзко и нагло обманывал их во всем Лигарид, позволительно было ожидать,что он за все свои проделки будет отправлен на Соловки под крепкий начал, но вместо этого царь Алексей начинает горячо хлопотать перед Иерусалимским патриархом о восстановлении Лигарида в его прежнем достоинстве Газкого митрополита. И не стыдно было Тишайшему хлопотать за бессовестного вора, ибо вор оказал великие услуги - повалил Никона, попрал старые обряды ради новых. Вместе с царем шлет просительную грамоту о Лигариде и Московский патриарх Иоасаф, подключившийся к этому делу, разумеется, по указанию царя. Эти грамоты были получены уже не Иерусалимским Нектарием, который отказался от патриаршества, а его преемником по патриаршей кафедре Досифеем.
Досифей неохотно, с бранью и только после двукратных настойчивых предложений царя, подкрепленных щедрою «милостынею», решился, наконец, восстановить Лигарида в прежнем достоинстве Газского митрополита. Царь был доволен — выкупил своего любимца. Однако, не прошло и двух месяцев, как Лигарид был снова запрещен, и царь Алексей снова хлопочет о его разрешении, теперь уже через волошского воеводу, рискуя пойти на унижение царского достоинства.
Патриарх Досифей так и не согласился дать вторично раз-решение Паисию Лигариду и умер с убеждением, что последний был латынником.
Публикации римско-католического патера П.Пирлинга и историка Е.Шмурло, извлеченные из римских архивов, не оставляют сомнений в том, что Паисий Лигарид был агентом иезуитов. Еще в 1643 г. Лигарид писал в Рим секретарю «Пропаганды» Игноли: «С моей стороны сделано всё для возвеличения и прославления Римской церкви в защиту её догматов и обрядов».
К концу жизни царь Алексей уже не так жалует Лигарида и даже держит его под арестом. Лигарид умер в Киеве в 1678 г. запрещенным архиереем.
Царь Алексей все ведение дел на соборе 1667 года передал в руки восточных патриархов, Паисия Александрийского и Макария Антиохийского. Конечно, он это сделал, предварительно убедившись в том, что они будут проводить нужную ему линию, т.е. утверждение «реформы», и, разумеется, постоянно контролировал их действия, сам оставаясь аваясь в тени, по обычаю. На соборе восточные патриархи, воспользовавшись положением, держали себя авторитетными верховными судьями и безапелляционными решителями всех русских дел. Собор под их руководством признал старый русский обряд еретическим и запретил его, а придерживающихся старого обряда отлучил от церкви и анафематствовал. Однако, как пишет Н. Каптерев, «признанный ими еретическим обряд в действительности был созданием Православной Греческой Вселенской Церкви, и ранее, в течение целых столетий, он существовал у старых православных греков, и обвинять за него русских в еретичестве в существе дела значило обвинять в еретичестве старую Греческую Православную Церковь».
Угождая царю Алексею и проводя нужную ему линию, восточные патриархи далеко зашли в своей деятельности. Они соборно признали и утвердили, что наши старообрядцы большие и опасные еретики; что их, как еретиков, нужно отлучить от Церкви и подвергнуть анафеме, подвергнуть их всевозможным градским казням, чтобы искоренить окончательно. Радикальность этого решения была в духе Алексея Михайловича, любившего основательность в царских делах, «накрепко сделать», как он часто выражался в своих указах. Патриархи угодили царю, и он их щедро наградил за их соборную деятельность.
Восточные патриархи санкционировали на все будущее время, так сказать, благословили политику всяческих преследований старообрядцев со стороны государственной власти.
Однако выяснилось, что восточные патриархи, проводившие у нас собор и принимавшие соборные решения, были в то время уже под запрещением от Константинопольского патриарха Парфения, и с санкции турецких властей были лишены своих кафедр. Таким образом, собор 1667 г. следует признать неканоничным, а решения его незаконными. Под запрещением были три главных участника собора: два восточных патриарха и их главный вдохновитель и руководитель Паисий Лигарид. Будучи под запрещением эти лица участвовали и даже возглавляли архиерейские богослужения в Москве.
Осознав ситуацию, увидев угрозу своему делу, царь Алексей начинает срочно хлопотать о восстановлении бывших патриархов в их прежнем достоинстве. Он пишет грамоты турецкому султану, Константинопольскому патриарху Парфению, молдавским и валахским властям, как близко стоящим к султану. Султана просит «повелеть упомянутым патриархам снова занять свои кафедры». В грамоте к валахским властям царь просит «преосвященных и премудрейших архиеереев», чтобы они всячески, с своей стороны, содействовали возвращению упомянутым патриархам отнятых у них кафедр.
Благодаря усиленным хлопотам царя перед турецким султаном, Паисию и Макарию были возвращены отнятые было у них патриаршие престолы.
Эта неприятная для восточных патриархов и для царя Алексея история с запрещением произошла вследствие того, что Паисий и Макарий, прельстившись ожидаемым богатым вознаграждением, пошли на большой риск и отправились с Москву, не заручившись согласием на эту поездку ни Константинопольского патриарха, ни турецкого правительства.
Н.Каптерев так говорит об этом: «Естественно думать, что решаясь на такой рискованный для них шаг, - самовольную поездку в Москву, они руководились в этом случае какими-либо особыми и для них очень важными побуждениями и целями?» - И отвечает: «Необходимо признать, что ехать в Россию они рискнули главным образом в тех видах, чтобы получить для себя от русских возможно богатую и обильную милостыню, которую, конечно, обещал им грек иеродиакон Мелетий, уговоривший их ехать в Москву. И патриархи достигли своей цели».
За время пребывания в Москве восточные патриархи «заработали» неслыханные суммы. И царь Алексей не обманул их ожиданий, за утверждение «реформы», хотя бы и ценой раскола Церкви, он щедро наградил их.
«Патриархи получили в Москве огромные суммы, — пишет Н.Каптерев, - и непосредственно от царя и членов царской семьи, и от разных духовных и мирских лиц, и от сделок с членами своей свиты и греческими купцами, и от собственных торговых операций, так что их пребывание в Москве в денежном отношении, несомненно, было очень тяжело для нашего правительства, тем более, что оно отправляя, например, особое посольство в Турцию, чтобы звать патриархов в Москву и потом особое посольство, ради восстановления патриархов на их престолах, тратило на это дело большие суммы, так как кроме непосредственных трат на самое посольство, приходилось еще посылать с послами дары разным лицам, которые принимали так или иначе участие в деле и могли содействовать его благополучному исходу».
То есть можно сказать, что никому не подотчетный царь фактически ограбил Россию и в угоду своим капризам и, главное, как центральный агент влияния иезуитов с их проектом сокрушения Русской Церкви и России. На неслыханный грабеж России, то есть собственно русского мужика, с которого буквально драли три шкуры, мужик и отвечал постоянными бунтами и восстаниями во весь «бунташный» век царствования этого второго Романова, окончательно, к тому же, закрепившего крепостное право.
Изучавший эту историю по архивным документам Н. Каптерев, замечает: «Наше правительство вздохнуло свободно, когда патриархи оставили Москву и направились домой, по- видимому, материально вполне удовлетворенные. Но в действительности оказалось не то. Оставив Москву, патриархи снова обращаются к государю с просьбами устроить разные их делишки и еще, и еще давать им милостыню».
Назойливые выпрашивания «милостыни» продолжаются еще много лет спустя после собора 1667 г.
«Указаннные довольно безцеремонные требования двух бывших в Москве восточных патриархов, чтобы царь постоянно заботился об их материальном благополучии и процветании и после того, как они оставили Москву и вывезли из нее огромные суммы, чтобы царь присылал им богатую милостыню и на будущее время... необходимо производило на московское правительство очень тяжелое и неприятное впечатление. Оно не могло не понять, что служит предметом самой беззастенчивой эксплуатации со стороны бывших в Москве восточных патриархов, которые в отношении к московскому правительству руководствуются чисто интересами наживы, только о том и заботятся, как бы еще и еще побольше получить от него».
Наконец, и царь Алексей в ответной грамоте заметил Антиохийскому патриарху Макарию, что его требования новых денежных пожертвований «чрезмерны и не вполне деликатны, так как царская казна предназначена вовсе не на удовлетворение только безмерных патриарших требований о даче денег, но и на разные государственные нужды».
Н.Каптерев об этих гостях, наконец, сообщает, на первый взгляд, просто невероятные вещи: «Приехавшие в Москву восточные патриархи открыли у нас очень не безвыгодную для них торговлю индульгенциями, продавая их желающим по рублю за штуку (20 руб. по курсу 1912 года)».
Таковы были у царя наемники, утверждавшие по его указанию, церковную «реформу» и проводившие ее в жизнь. Став по воле царя руководителями «собора» 1667 года, они ошельмовывают старый русский обряд, ставят его вне закона в угоду и по указке слабоумного и прельщенного царя, упорно стремящегося, словно в гипнотическом трансе, к осуществлению внушенной ему призрачной мечты - наследовать византийский престол и стать во главе Греко-Российского царства новоявленным василевсом. Достижение же единообразия с греками в церковной жизни путем «реформы» было, по мнению реформаторов (конечно, с подсказки иезуитов), первым и логически необходимым шагом в цепи практических мероприятий по осуществлению «греческого проекта».
Б.П. Кутузов
Аминь!
Проект "Всенародное покаяние"
--------------------------
Телеграмм https://t.me/nikodimmda
Вконтакте https://vk.com/nikodimmda
Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/nikodimmda
Почта для связи: partner@nikodimmda.ru
Телеграмм для связи: https://t.me/mdanikodim
--------------------------
Основы православия https://goo.su/mc49c
Беседы на телеканале Союз https://goo.su/OfUQ
Ветхий завет курс 1, Введение + Пятикнижье Моисея https://goo.su/t0k8DcL
2..3..
Ветхий завет курс 4, Учительные книги + ответы на вопросы https://goo.su/RU5Ic
Миссиология https://goo.su/mtitpm
История мировых религий https://goo.su/CZ1BV8
--------------------------
Книга Иова на Экзегет https://goo.su/JtJL
Книга Чисел на Экзегет https://goo.su/ZYlUX
Второзаконие на Экзегет https://goo.su/Cqahulq
Книга Бытие на Экзегет https://goo.su/peYQe
Книга пророка Иеремии на Экзегет https://goo.su/YO0P8e
Книга Исход на Экзегет https://goo.su/roXi
--------------------------
Помогайте распространению ссылок. Помоги вам Господи!